 |
|
|
О моем Учителе
Цельникер Юдифь Львовна
"Воспоминания" (отрывки)
... В 1938 году я окончила школу и подала документы для поступления на биологический факультет Московского Государственного Университета. Этот выбор был в большой степени случайным. Я всегда любила животных, интересовалась растениями, но глубокого интереса к биологии у меня не было. Тем не менее, как я вижу сейчас, этот выбор был правильным... На первых двух курсах лекции по основным биологическим дисциплинам нам читали известные ученые, очень хорошо эрудированные, большинство с дореволюционным образованием. Таков был профессор Лев Александрович Зенкевич. Казалось бы, что можно найти привлекательного в червях и глистах, но он говорил о них так, что слушать его было очень интересно и то, что он говорил, надолго запоминалось Лекции по анатомии растений читал проф. Строгонов, ученик Тимирязева. У него учился еще Андрей Белый, о чем он упоминает в своей книге "На рубеже двух столетий". Низшие растения читал Лев Иванович Курсанов... В конце второго курса мы должны были выбрать себе узкую специальность. Я решила стать физиологом растений, так как мне хотелось заниматься повышением урожайности и я считала, что для такой работы нужно прежде всего хорошо изучить физиологические процессы растений. Моими коллегами избравшими ту же специальность, были Лида Семенова и Маша Зайцева. С Машей я вскоре подружилась и, как оказалось, на всю жизнь... Уже первая лекция по физиологии растений - нашей основной специальности - нас поразила. В аудиторию влетел человек небольшого роста с копной густых растрепанных волос и кипой книг под мышкой и еще на бегу начал читать лекцию. Это был Дмитрий Анатольевич Сабинин. Его манера чтения лекций сильно отличалась от того, к чему мы привыкли. Лекции по всем остальным предметам читались "академически":нам давали готовые знания по тому или иному вопросу как бы в статике. Задача, которую ставил перед собой Дмитрий Анатольевич была иная - он хотел нам показать, как добыты те или иные знания, с тем, чтобы мы научились самостоятельно думать и анализировать факты. Он вычерчивал на доске таблицы с результатами различных авторов и объяснял, как эти ученые трактовали полученные результаты, в чем были их ошибки в постановке опытов и трактовке результатов, если они пришли к неверным выводам. На таких лекциях нельзя было пропустить ни единого слова - иначе потеряешь всю нить рассуждений и доказательств, и все время нужно было напряженно следить за логикой лектора и думать. Время от времени логическое изложение материала прерывалось афоризмами (мы называли их лирическими отступлениями) такого типа: "если хочешь похоронить какую-нибудь теорию, - заставь студентов ее заучивать. Они донесут ее до экзамена и тут же забудут" "Биохимики, когда исследуют живое, уподобляются людям, которые берут целый горшок, разбивают его на черепки и по черепкам пытаются восстановить его свойства" "Ученые делятся на романтиков и классиков. Первые разбрасывают кругом свои идеи и окружают себя толпой учеников. Вторые корпят всю жизнь над одной проблемой и не создают своей школы. Примером ученого первого типа был Палладин, второго - Тимирязев". Нам не совсем было понятно тогда, зачем он приносил на лекции книги. Потом оказалось, что он хотел бы, чтобы студенты в перерыве их посмотрели. Но мы об этом не догадывались. В конце года мы сдавали Дмитрию Анатольевичу экзамен по специальности. Я благополучно ответила на все вопросы. После этого он стал спрашивать меня, читала ли я другие книги по специальности, кроме учебников, как я поняла прочитанное. Ведь это было первое личное знакомство Д. А. с будущими студентами его кафедры. У нас завязалась оживленная и непринужденная беседа. Но вдруг раздался стук в дверь и женский голос сказал: "Я корреспондент газеты "Московский большевик". Разрешите присутствовать на экзамене". Я так и застыла с раскрытым в ужасе ртом - ведь я уже сдала экзамен, а теперь еще новое испытание...Профессор, который до этого держался очень просто, сделал строгое официальное лицо, но, видя мой ужас, повернулся ко мне, незаметно подмигнул, и сказал: "Я хочу задать Вам очень сложный вопрос. Вам трудно будет на него ответить, так как в учебниках этого нет, но если Вы читали текущую иностранную научную литературу..." После этого он задал мне какой-то очень простой вопрос, на который я легко ответила. Примерно через неделю меня вызвали в деканат и объявили, что я позорю Московский Университет и что экзамен по физиологии растений мне придется пересдавать. Я ничего не понимала. Тогда мне показали газету, в которой корреспондентка расхваливала меня, приводя все эпитеты, которые ей внушал профессор (о чтении современной научной литературы), а затем приводила якобы цитату из моего ответа: "В листьях деревьев при фотосинтезе образуются жиры и масла и капают на землю". Я клялась, что ничего подобного не говорила, тогда в деканате сказали, чтобы я показала эту газету Профессору и чтобы он написал опровержение. Д.А. был в восторге, страшно развеселился, бегал по кафедре, показывая всем эту газету. Летняя практика по специальности началась у нас в ботаническом саду МГУ. В ботаническом саду мы впервые присутствовали на заседании кафедры и познакомились с ее сотрудниками. Там все для нас было ново и удивительно, и больше всего удивляла веселая непринужденная атмосфера общения сотрудников друг с другом. Профессор шутил, перебрасывался с сотрудниками едкими замечаниями, очень интересно рассказывал о новых исследованиях ростовых гормонов, которые начались на одной из опытных станций на Кавказе. После небольшой практики в ботаническом саду планировалось, что мы поедем сначала на опытную станцию в Геленджик, а потом на Белое море, где в то время только что организовали биологическую опытную станцию Университета. Но всему этому не суждено было сбыться. Началась война... Прошло два месяца. Немцы неуклонно наступали на Москву. Поговаривали, что занятия в Университете не начнутся. К тому времени выяснилось, что родители мои в Куйбышеве. Они мне выслали пропуск, и я решила уехать к ним... По приезде я устроилась на работу лаборанткой на Безенчукскую опытную станцию недалеко от Куйбышева... От Маши Зайцевой я регулярно получала письма. Она писала, что в Университете начались занятия, что она проходит на кафедре большой практикум по физиологии растений и подробно описывала задачи, которые она выполняет. Я читала эти письма и плакала. Потом Маша написала, что скоро их эвакуируют, а затем письма прекратились. Я начала регулярно ходить на станцию и встречать эшелоны, надеясь встретить среди них эшелон Университета. Однажды в октябре 1941 года я получила повестку, в которой мне приказывалось явиться на следующий день на сборный пункт, имея при себе зимнюю одежду и 10-дневный запас продуктов - я была мобилизована... Мы должны были рыть противотанковые рвы. Дно рва вспахивал трактор, а мы должны были выкидывать вспаханную землю наверх. Работа была тяжелой и непрерывной, так как нужно было успеть выкинуть землю между двумя проходами трактора... Потом была тяжелейшая зима 1941-42 года. Работа сначала по трудмобилизации, потом на парниках г. Куйбышева... Я регулярно получала письма от Маши и узнала, что Университет был эвакуирован сначала в Ашхабад, а затем переехал в Свердловск... В середине лета 42-го года я узнала, что Дмитрий Анатольевич вернулся в Москву, и что в Москве возобновляются занятия в Университете. Я написала маме, чтобы она пошла на кафедру и попросила Д.А. вызвать меня для продолжения занятий. Дмитрий Анатольевич принял маму очень любезно, но отговаривал ее от того, чтобы вызвать меня в Москву. Он показывал маме разоренную кафедру, говорил о том, как тяжела сейчас жизнь в Москве и заметил, что ведь в Куйбышеве есть сельскохозяйственный Институт и я могла бы там учиться. На это мама возразила "Она ни у кого не хочет учиться кроме Вас!" Как потом оказалось, эти ее слова произвели на Д. А. глубокое впечатление. Тем не менее, в Москву мне все же удалось вернуться. Часть учреждения, где работал папа, возвращалась в Москву. Папа устроил меня к ним на работу копировщицей. В ноябре 1942 года мне удалось вернуться в Университет. В ноябре 1942 г. вечером я зашла на кафедру. Д.А. был один в своем кабинете. Подперев голову рукой, он внимательно выслушал мои рассказы об окопах и видно было, что он переживает вместе со мной. Начались занятия. Кроме Д.А., на кафедре была еще одна лаборантка. Д.А. жил в своем кабинете и все время безотлучно проводил на кафедре. Он читал нам лекции по спецкурсу, но так как нас было только двое, то проходили они весьма своеобразно. Д.А., говоря об исследованиях того или иного автора, рисовал нам на доске таблицу с результатами его опытов и спрашивал, какие выводы можно сделать из полученных цифр. Мы, запинаясь, начинали что-то лепетать, на что Д.А. замечал: "Вы чрезвычайно остроумный человек! Дело в том, что автор сделал на основании этих данных противоположные выводы". Кроме лекций, у нас были практические занятия. Опыты нужно было проводить с кусочками растений. Поэтому Лида, у которой бабушка жила за городом и имела огород, приносила на занятия то кусочек моркови, то картошку, то луковицу. После выполнения учебной задачи мы тщательно собирали остатки этих овощей и варили суп. Кроме лекций и практических занятий на кафедре мы слушали и другие курсы лекций - например, дарвинизм. Одна моя сокурсница попросила меня помочь ей и позаниматься с ней дарвинизмом. После занятий мы с ней обедали - ели суп из крапивы, которую она летом насушила, и запивали напитком из желудей, которые она насобирала. Может показаться странным, что я тут так много пишу о еде. Но все военные годы нас всех сопровождало постоянное чувство голода. Поэтому все, что связано с едой, казалось очень важным и хорошо запомнилось. Зима 1942-43 года была в Москве, пожалуй, самой голодной и холодной. Кроме хлеба, мы получали по карточкам какое-то небольшое количество продуктов. За ними приходилось стоять в длинных очередях. Разговоры в очередях в основном вертелись вокруг еды. Ни на помойках и нигде на улице нельзя было увидеть ничего, годного в пищу - ни листка капусты, ни картофельной шелухи. Когда хотели сказать, что какой-то человек очень богатый, про него говорили: "Он картошку ест чищенную, а шелуху выбрасывает". Университет не отапливался, и когда начались морозы, все приготовленные в лаборатории заранее растворы у нас замерзали, а колбы лопались. Так же холодно было и в домах... Я продолжала переписываться с Машей. Письма ее были грустные. Она писала, что живет с мамой в общежитии, кроме занятий в Университете, по ночам, работает на заводе. Библиотека не работает, да и наука усваивается на голодный желудок и невыспавшуюся голову плохо. Кроме того, было неясно, привезут ли студентов 5 курса обратно в Москву или ей предстоит закончить Университет в Свердловске и остаться там. В середине зимы Д.А. поехал в Свердловск. Вернулся он оттуда мрачный - жизнь студентов там произвела на него тяжелое впечатление. Д.А. начал спрашивать нас, какие научные статьи мы читали за последнее время, и остался очень недоволен нашим ответом. Он принес две статьи - одну на немецком, другую на английском языке и запер нас на ключ, сказав: "Отопру, когда прочтете". Наше знание языков было не таким, чтобы мы могли бегло читать научные статьи, и через некоторое время мы начали жалобно просить, чтобы он нас выпустил, пообещав прочесть статьи после. Весной 1943 года Университет вернулся из эвакуации. Возвратилась часть сотрудников кафедры, приехала и Маша. Немцы повсюду отступали. Жизнь понемногу восстанавливалась. Я окончила 4 курс. Предстояло выполнение дипломной работы. Д.А. предложил мне в качестве темы для дипломной работу теоретического направления, связанную с измерениями под микроскопом. Но я заартачилась. На вопросы Д. А о том, чего бы мне хотелось, я не могла связно сформулировать свои пожелания, но твердила, что мне нравятся "пшеница и удобрения". На самом деле, вопросы, связанные с урожайностью, меня всегда привлекали, даже до войны, когда я еще не натерпелась голода военных лет. Кроме того, я начиталась работ Тимирязева, в которых он пропагандировал новую систему земледелия. Одна из его статей так и называлась "Вырастим два колоса там, где рос один". Я читала эту работу с волнением и даже со слезами. Д.А. договорился, что нас с Лидой Семеновой возьмут для выполнения дипломных работ в Институт удобрений (ВИУАА). Мне дали тему по исследованию влияния разных доз удобрений на урожай томатов в лаборатории Д.Н.Прянишникова. Подопытные растения были высажены на Опытной станции Института в Барыбине... Летом Маша Зайцева окончила университет и осенью поступила в аспирантуру. Она работала на кафедре. Иногда Маша приходила ко мне в гости и оставалась ночевать. Спали мы в одной комнате с моей родственницей Мирой и обычно всю ночь шептались. Утром Мира говорила маме: "Опять они мне всю ночь спать не давали, и говорили все одно и то же, этого можно было бы и не говорить" (сама Мира была молчаливой). "Что же они говорили?" - спрашивала мама, а Мира отвечала: "Профессор и кафедра, кафедра и профессор". Мама стыдила нас: "Ну что вы, как институтки!". Но через несколько лет, когда Д.А. зашел к нам в гости и мама провела вместе с ним целый вечер, слушая его живые, остроумные высказывания, она сказала: "Вот теперь я вас понимаю". К зиме 1943-44 года в Университет вернулись все старые сотрудники кафедры и кафедра ожила. В ее состав входили 3 доцента Ольга Михайловна Трубецкова, Сарра Сауловна Баславская и Николай Гаврилович Потапов, 2 ассистента - Николай Карлович Тильгор и Фрида Захаровна Бородулина, 4 аспиранта - Галя Шоклендер, Рида Белоусова, Нина Панкратова и Маша Зайцева. Галя Шоклендер в ту зиму окончила аспирантуру, защитила диссертацию, и ее приняли на кафедру научным сотрудником. Были еще и лаборанты - двое или трое. Они обслуживали малый практикум для студентов и с ними мы почти не соприкасались. Число студентов также увеличилось На 5-й курс пришли студенты, которых в начале войны в 1941 году отчислили из Университета, выдав справку об окончании четырех курсов. Теперь их вновь созвали для окончания учебы. Вторым лицом на кафедре после Д.А. была Ольга Михайловна Трубецкова. Она была одной из первых учениц Д.А, того периода, когда он 20 лет назад работал в Пермском Государственном Университете. Она была секретарем кафедры и строго следила за порядком. Это стоило немалых усилий, так как Д.А. был человеком безалаберным. Я думаю, что без нее кафедра просто не могла бы существовать. Ее строгое, даже суровое обращение со студентами контрастировало с ее внешностью - она была женственно-миловидной. Особенно красили ее чудесные голубые глаза. В эту зиму на кафедре возобновились прерванные войной научные семинары. На них обсуждались разные теоретические проблемы физиологии растений и смежных наук, экспериментальные работы сотрудников. По мере того, как в Москву возвращались эвакуированные научные учреждения, семинары становились все более и более многолюдными - их посещали многие сотрудники других учреждений. Однажды на семинаре присутствовал профессор из Австралии Эшби. Машу, которая хорошо знала английский язык, посадили рядом с ним как переводчицу. Вдруг я заметила, что Маша буквально корчится от сдерживаемого смеха. Я спросила ее о причине, и она указала на Эшби - он весь исчесался. Дело в том, что в тот год вся Москва была наводнена блохами - вероятно, потому, что у всех в комнатах хранилась картошка. Блохи были в метро, в Большом театре, в консерватории, не говоря уже о квартирах. Просыпаясь, мы начинали свой день с ловли блох и уничтожали их десятками. Были они и на кафедре. Мы-то к ним уже привыкли, не реагировали, а Эшби стал их жертвой. Д.А. часто бывал докладчиком на семинарах кафедры. Он регулярно следил за литературой, и стоило появиться в библиотеке какой-нибудь новой интересной работе, он тут же о ней докладывал на семинаре. Он очень скрупулезно анализировал экспериментальные результаты автора и часто трактовал их иначе, чем сам автор. Сотрудники, если они к тому времени успевали прочесть вновь вышедшую работу, ему возражали. Завязывалась оживленная и остроумная дискуссия. При этом Д.А. говорил: "Вы все равно меня не переспорите. Вам надоест, а я все буду говорить и говорить!" Если в дискуссию ввязывались и студенты, Д.А. был особенно доволен. Тогда он восклицал: "Какой умный ребенок, смотрите, что он сказал!" Часто на семинары приглашали докладчиков со стороны. Обычно это были известные ученые генетики, вирусологи и др. Постепенно мы - студенты и аспиранты - сплотились в дружный кружок, который мы называли "Общество макак". После семинаров мы обычно собирались, обсуждали и пародировали то, что происходило на семинаре, а потом писали шуточные протоколы. Так, я помню, в одном из наших протоколов было написано "После доклада выступил профессор и глубокомысленно сказал: "А когда я был в Париже, меня называли месье" (дело в том, что Д.А. любил рассказывать на семинарах, как в 1927 году он был в научной командировке в Париже). Иногда мы приглашали на наши заседания и Д.А. Он смеялся вместе с нами, даже когда объектом высмеивания был он сам. Ольга Михайловна была этим очень недовольна, считая это издевательством над наукой, которое как бы умаляет ее. После защиты Галю приняли на кафедру научным сотрудником. Основное время в ту зиму я проводила в ВИУАА, заканчивая свою дипломную работу. На кафедру приходила слушать лекции. В тот год мы слушали спецкурс "Основы земледелия", который читал Н.Г. Потапов и "Рост и развитие растений", который читал Д.А.Сабинин. Незадолго до этого вышла брошюра Лысенко, полная всяких несообразностей и Д.А. часто на лекциях цитировал отрывки из этой брошюры. Их даже не надо было комментировать - нелепость всего, что было там написано, была и так ясна. Я вспоминала, что когда-то, поступая на кафедру и веря в "теорию" Лысенко, я боялась, что Д.А. будет меня перевоспитывать. Но этого делать не пришлось. К тому времени, когда я лучше познакомилась с физиологией растений, я сама поняла, что вся теория Лысенко - это сплошной бред и псевдонаука. В начале января 1944 года, придя на кафедру, я встретила Галю Шоклендер. Она спросила меня, не хочу ли я поехать в экспедицию в Грузию. Выяснилось, что Д.А. заключил договор с Комитетом Главчая на выполнение силами кафедры научной работы по изучению чая, цитрусовых и тунга. Д.А. согласился меня взять, если я за короткий срок до отъезда напишу дипломную работу и сдам обязательные экзамены. Вскоре мы выехали в Грузию. Нас было пять человек: Д.А.Сабинин, Н.Г.Потапов, Галя Шоклендер, моя однокурсница Майя Штернберг и я. Ехали очень долго. До Тбилиси поезд тащился 7 суток кружным путем, через Сталинград, так как в Харькове еще были немцы. За целые сутки пути до Сталинграда, и немного после него всюду, куда хватал глаз, можно было видеть в степи разбитые танки. В самом Сталинграде, который мы проехали, не останавливаясь, виднелись пустые коробки разбитых зданий с выбитыми окнами. По дороге Д.А. занимал нас рассказами из своей жизни. Так, он рассказал, что как-то ему пришлось заполнять анкету с вопросом о социальном происхождении. Все сотрудники Университета писали, что они из крестьян или рабочих, хотя было известно, что большинство из них - дети дворян и купцов. В пику им Д.А. написал, что он дворянин. Хотя, добавил он, на самом деле я - незаконный сын. Много позже, от его старшей дочери Марины я узнала более подробно историю этой семьи. Мать Д.А. Мария Войцеховна, вышла замуж за Анатолия Христофоровича Сабинина, но вскоре от него ушла к Инокентию Дмитриевичу Кузнецову. Поскольку она не получила официального развода, то трое их детей носили фамилию ее первого мужа. Инокентий Дмитриевич был известным ихтиологом и работал в Министерстве Земледелия, много ездил по Сибири и брал с собой в эти поездки Д.А. История жизни И.Д.Кузнецова не совсем обычна. Его отец - дед Дмитрия Анатольевича - был ссыльным и жил один со своим маленьким сыном где-то в глуши. Когда мальчику пришла пора учиться, отец повез его на пароходе в губернский город, где была гимназия. По дороге отец скоропостижно умер, а сын, доплыв до этого города, пришел к директору гимназии. Директор поговорил с ним и оставил его учиться и жить у себя. Сохранился дневник деда Д.А., написанный по-французски, который теперь находится у внучки Д.А. В наших длительных беседах с Д.А. в поезде часто возникали интересные разговоры и споры на отвлеченные темы, например о том, нужны ли декорации в театре. В Тбилиси остановились на пару дней, Д.А. посещал разные официальные учреждения, а мы осматривали город и мылись в серной бане. Потом поехали дальше - в Западную Грузию, в Институт чая и субтропических культур (ВНИИЧПиСК), подчиненный Главчаю, где нам предстояло работать. Институт находился. на большом холме в поселке Анасеули (близ города Махарадзе - бывшего Озургети), окруженном чайными плантациями и зарослями дикой растительности. В Западной Грузии все было для нас новым и удивительным - и субтропическая растительность, и красные почвы, и погода. Д.А., который неоднократно бывал в этом месте, знакомил нас с растениями, с особенностями климата и пр. У Д.А. было задание от Главчая - обследовать состояние чайных и цитрусовых совхозов и филиалов ВНИИЧПиСК, которые располагались в разных городах Западной Грузии, Аджарии и Абхазии. В инспекционную поездку мы поехали вчетвером. Нас удивляло, что, беседуя в совхозах с главным агрономом или директором, Д.А. был хорошо знаком с положением дел в этом совхозе и на память называл цифры урожайности в нем в разные годы. В это время в совхозах по всему побережью свирепствовал сыпной тиф. Мы с Галей Шоклендер каждый вечер внимательно проверяли свою одежду и один раз нашли вошь. Мы посоветовали Д.А. тоже проверить его одежду, но он страшно возмутился и закричал: "Вы понимаете, что вы говорите! Вы предлагаете профессору искать вшей! Я никогда в жизни этим не занимался! Вот когда я служил в санитарном батальоне (это было во время первой мировой войны), я приходил домой и тут же стирал и гладил белье. Там было много вшей, но я никогда не унижался до того, чтобы искать их!"... Потом Д.А. уехал в Москву, а мы остались в Анасеули. Вскоре мы получили письмо от Д.А., которое начиналось словами: "Милые, беспризорные, брошенные дети! У старших брошенные дети вызывают чувство нежности и заботы. Теперь я полон этими чувствами... " По-видимому, письмо было написано в поезде. Он писал далее: "В Тбилиси мы видели много приятного и интересного и в том числе оперетту "Перикола" с прекрасными исполнителями и исполнительницами, молодыми и темпераментными и хорошо поющими. В Тбилиси стоит все та же ослепительная теплая погода, и кажется что синее небо, солнце и сухой воздух - постоянная принадлежность этого города. Но зато ничто меня так не обрадовало в Тифлисе, как находка цветущей Merendera на склоне горы Давида... Снова показалась синяя полоска Каспия, равнины, поросшие солянками уступами снижаются к морю, напоминая о лежащих так близко и так недоступно далеко Кара-Кумах"... В конце мая мы вдвоем с Майей поехали в Москву сдавать госэкзамены. Потом решили отпраздновать наше окончание. Пригласили всех членов кафедры и собрались на даче у Нины Панкратовой 11 июля 1944 г. Гуляли всю ночь. Д.А. произнес два необыкновенных тоста, которые Рида Белоусова записала по свежим следам в своем дневнике. Воспроизвожу их по ее записи. "Сначала Д.А. говорил о том особом мирке, который создался на кафедре и который он почувствовал на двух последних семинарах, о необычности момента и об индивидуальности этого именно выпуска. Дальше он сказал: "1941 год. Война. Судьба разметала всех в разные уголки страны. Дифа - в Куйбышеве, Нина - в Мариинске, Рида - в Новороссийке, Сусанна - где-то на севере. Я получаю письма от Майи. Встреча с Дифиной мамой заставила особенно задуматься над тем, какая ответственность лежит на мне за эти вверенные мне молодые души. Ведь вы были тогда еще так малы, так мало общались с кафедрой. Вы только дохнули ее духа, только едва приоткрылись перед вашими умственными взорами ее горизонты. И казалось, что все это было так слабо и непрочно, что в ужасных условиях войны должна была непременно заглохнуть вспыхнувшая в вас искорка. Каково же было мое изумление, когда я услышал, что Дифа считает самым дорогим в своей жизни специальность. Дифина мама сказала мне это так просто, но я почувствовал в душе огромную ответственность за тот огонек, ту искорку, которую нам удается заронить в молодые души. Я вспоминаю свою юность, годы, когда я кончал гимназию, кончал университет. Именно тогда особенно глубоко переживается вся необычайность, необыденность всех событий. Вот кончился день, наступила ночь, она проходит, и на горизонте должен показаться край солнца. Восход солнца! Событие, повторяющееся каждый день и самое обыденное, но в такие дни кажется, что ты непременно должен видеть этот восход солнца, иначе в жизни твоей произойдет что-то трагическое. Ваш выпуск необычен. Ваше поколение отличается от всех остальных тем, что все вы сумели пронести зажженный в вас огонек и этот огонек дал вам сил вернуться в университет. А ведь он был так слаб и столько ветров бушевало вокруг. И это придает необыденность, необычность вашему выпуску. И мы, глядя на вас, заражаемся этим чувством необыденности и молодеем вместе с вами. Я пью за то, чтобы загоревшийся в вас огонек разгорелся в большое пламя. Я пью за неугасимость порыва!" Второй тост был посвящен размышлениям Д.А. о строении протоплазмы, которыми он до поры до времени ни с кем не делился. Эти размышления он назвал "Структура жизни". "Вот вы спрашиваете- "структура жизни" - что это такое ? Откуда взялась эта идея? И вам она кажется необычайно сложной и мудрой. А на самом деле совсем не так. Это было зимой 42-го года. Тогда еще не было этого чудного мирка, я был одинок, совсем одинок. Вы знаете ноктюрны Шопена? У кого слезы не навертывались на глазах, когда он слушал их? Ноктюрн... Это означает по-латыни "ночное вдохновение". У Шопена самое главное - это его ноктюрны. Нет ничего капризнее и причудливее их, ибо только в часы между наступлением ночи и восходом солнца доступны человеку вдохновения, непревосходимые по силе и страсти. "Структура жизни" тоже ноктюрн, ночное вдохновение, посетившее меня в одну из одиноких декабрьских ночей. Это несколько простых мыслей о жизни, ее строении, ее значении, так, черт знает... Я взял хороший чистый лист бумаги, старательным почерком написал на нем свое сочинение, положил этот лист в синюю красивую папку и решил никому не показывать, и не показывал никому. Н.Г. со своим скверным характером вынудил меня показать ему эти тезисы и тут же закричал "Это замечательно!" Но, право, же тут ничего нет такого, так, черт знает...". Через несколько дней Д.А. показал "Структуру жизни" остальным сотрудникам кафедры. В нескольких коротких тезисах Д.А. изложил свои представления о строении "живого вещества". Эти представления, по сравнению существовавшими тогда взглядами, были принципиально новыми и по существу предвосхищали более поздние представления по этому вопросу... Д.А. никогда не давал нам прямых указаний, что именно мы должны делать, он предпочитал, чтобы мы догадывались сами. Он называл такой метод воспитания "Бросить щенка в воду, пускай выплывает". Иногда, встречая меня в коридоре кафедры, он говорил: "Зайдите-ка ко мне, мы давно с Вами не беседовали. Что Вы делали и что Вы об этом думаете?". Я начинала длинно рассказывать, он внимательно слушал, как всегда, подперев голову рукой, а потом перебивал меня неожиданным вопросом, как мне казалось, не относящимся к делу: "А как Вы объясняете такое-то явление?" Я отвечала, что над этим я не думала и объяснить этого не могу. Д.А. возражал: "Вы слишком самоуверенный человек, если Вы думаете, что другие явления Вы смогли объяснить правильно". Потом, выйдя из кабинета и продумывая весь разговор, я начинала понимать, что Д.А. с самого начала разговора увидел, что я на неверном пути и своими вопросами пытался меня направить на верную дорогу. Мы ошибочно полагали, что все, что мы делали и к чему пришли, мы сделали вполне самостоятельно, хотя на самом деле Д.А. все время нас направлял, стараясь делать это незаметно Такой метод руководства заставлял нас самих усиленно думать и чувствовать себя ответственными за свою работу, но зато в нем были и недостатки - по неопытности мы часто ошибались и делали подчас работу, которая потом оказывалась бесполезной. Нас с Майей по распределению направили на работу во ВНИИЧПиСК в Анасеули. Во время эпизодических приездов Д.А. мы ездили с ним на поезде вдоль побережья на север - знакомиться с состоянием субтропических культур на северном пределе их распространения. В это время только что построили новую дорогу, соединяющую Сухуми, Сочи и Туапсе, но она действовала еще нерегулярно. Поезда обычно были переполнены, но когда Д.А. начинал нам что-то рассказывать, публика тут же расступалась, ему уступали место, а потом все группировались вокруг него, жадно слушая его рассказы... Во время одного из приездов Д.А. я была в Анасеули одна, Майя работала где-то в тунговом совхозе. Д.А. все дни бегал из одной лаборатории института в другую, знакомясь с их работой, и старался привлекать к этому и меня. Но я решительно сказала, что с 8 до 5 занимаюсь экспериментальной работой. В дальнейшем он приходил в лабораторию ровно в 5 часов и тут же тащил меня куда-нибудь. Рассказывая что-либо, Д.А. всегда ждал от слушателей эмоциональной реакции. Ждал он этого и от меня. Но я не могла так темпераментно реагировать, как этого ему хотелось. Поэтому я очень уставала и с тоской думала - хоть бы приехал кто-нибудь из наших! Темперамента Д.А. как раз хватит, чтобы разделить его на четыре - пять человек! Вот это будет в самый раз. Помню, что однажды, в жаркое ясное воскресенье мы с Д.А. пошли бродить по горной речке Жуже, которая текла под горой около института. Вода была ледяной, мы то и дело проваливались в ямы, а потом вытаскивали друг друга. Нашли остров и уселись там отдохнуть. Д.А. попросил: "Расскажите мне о своем отце, как он с Вами обращается. Ваши подруги рассказывали, что у Вас очень хороший папа. А я никак не могу найти верный тон со своими детьми: если я с ними мягок - они мне садятся на голову, а если суров - отчуждаются". Потом пошли снова бродить. Забрели на заброшенное кладбище, где в беспорядке были свалены полуразбитые памятники. Д.А. с грустью сказал: "Те, кто не уважает мертвых, не уважают и живых". После отъезда Д.А. я получила от него письмо. Он писал: " 23. VI-45. Милая Дифа, все мои планы, в которых так аккуратно были размечены дни и места пребывания, не столько рухнули, сколько просто увязли в той вязкой среде, какой является поток времени в Тифлисе. Все здесь, как прежде - приходится слышать пышные обещания, уверения.... А потом вечером с рюкзаком за плечами маршировать к Кварацхелия (ботаник, известный грузинский академик - Ю.Ц.) на положении обманутого беспризорника. Далее изменилось расписание поездов, далее.... В общем я, оставив в покое Кировабад, собираюсь лететь в Москву. О Вашей работе с цитрусовыми я вспоминал в разговорах с Кварацхелия и его дочерью. Она готовит к защите диссертацию о ритмичности роста лимонов, развивая представление о зависимости этого ритма от внешних условий. Да простит им Господь Бог, вероятно, уже привыкший ко многому, их заблуждения. Опадение верхушечных почек якобы упомянуто у Чендлера в его "Плодоводстве". Проверьте это. Теперь слушайте голос практики. Алавидзе - зам. Наркома земледелия - утверждает, что цитрусовые, в особенности лимоны, усыхают подобно тунгу, и он склонен считать, что на долю "mal secco" (вирусное или грибное заболевание - Ю.Ц.) относят много случаев гибели, вызванных другими причинами. Когда я говорил о неподходящих местах, выбранных для посадки, то встретил энергичный отпор. Усыхание лимонов, по-видимому, сейчас едва ли не склонны возвести в ранг проблемы, подобной усыханию тунга. Создается странное положение, я вижу, что даже в Тбилиси нет людей, нет среды для восприятия того, что сделано по цитрусовым Вами. Такой вопрос, как смена типов - вопрос фундаментального значения - просто наталкивается на непонимание их значения. Как будто кругом среди этого народа древней культуры вас окружает атмосфера, насыщенная пессимизмом Екклизиаста: "Ничто не ново под луной", "Что было, то будет", и в этой среде заглохают без отзвука громко высказанные новые слова.... Чувствую, что сбиваюсь на старческое ворчание и умолкаю. Всего хорошего"... В то лето мы вообще много говорили с Д.А. о жизни и о литературе. Времени для этого здесь, вдали от московской суеты, было достаточно. Однажды я сказала Д.А., что хотела бы быть бродягой, что я устала от того, что каждый день намечаю для себя какие-то задачи, которые не могу целиком выполнить. Д.А. меня внимательно выслушал - он всегда слушал нас внимательно, какую бы ахинею мы ни несли - и заметил: "Вам тяжела своя свобода. В прежние времена в дворянских семьях сыновья часто записывались в офицеры именно потому, что не могли справиться со своей свободой и им необходимо было внешнее давление"... Д.А. несколько раз водил нас в горы, еще мы брали с собой 15-летнего сына Д.А. Костю. В следующем, 1946, году, мы тоже ходили в горы в том же составе, уже через Клухорский перевал в долину Теберды. Помню, что от последнего пункта, где кончалась автомобильная дорога и куда мы приехали на попутном грузовике, мы шли 40 км почти без остановок целый день, чтобы успеть перейти до вечера через перевал. Когда мы начинали жаловаться, что мы устали, Д.А. сердился и говорил: "Что это за детский сад! Вам бы еще сосочку принести!". Уже в темноте мы дошли до бараков, где во время войны жили немцы-оккупанты, и там заночевали. Утром забрались на ледник. Хотя Д.А. в то время было около 60 лет, физически он был более сильным и более закаленным, чем мы... В одну из поездок по делам в Сочи мы застали там гастроли Свердловского театра оперетты. В то время этот театр славился, как один из лучших. Мы несколько раз были на их спектаклях, но больше смотрели не на сцену, а на Д.А. - он так искренне веселился и неудержимо хохотал при каких-то пошлых шуточках или нелепых эпизодах на сцене. Когда я думала о характере Д.А., меня всегда поражало в нем редкое сочетание глубины и какого-то легкомыслия, даже детскости в поведении. Наряду с глубокими размышлениями о жизни, он мог восторгаться всякой ерундой и искренне неудержимо смеяться, выслушивая пошлые шуточки в оперетте. Невольно вспоминался эпизод из "Моцарта и Сальери", когда Сальери возмущался тем, как Моцарт с восхищением выслушивает игру уличного скрипача... У Д.А. появилось много новых идей и представлений о росте и развитии растений. Их он излагал в докладах - сначала на общем собрании на биофаке Университета, а потом на заседании в Доме Ученых. Иллюстрацией и подтверждением этих новых взглядов Д.А. служили результаты наших работ. Но среди солидных ученых взгляды Д.А. понимания и сочувствия не встретили. На заседании в Доме Ученых, где председательствовал Н.А. Максимов, он возражал Дмитрию Анатольевичу, не соглашаясь с его новой формулировкой процесса роста. С критикой взглядов Д.А. выступал и проф. П.А. Генкель. Оглядываясь назад, я теперь понимаю, почему Д.А. так привязался тогда к нам: его взгляды очень сильно опережали свое время, и его современники их не принимали. Среди них он был одинок. Только мы - молодежь, которая раньше не знала ничего другого, считала все, что говорил Д.А. само собой разумеющимся и принимала все это с восторгом...
"Я не мог поступить иначе"О судьбе профессора Д.А. Сабинина 30 ноября 1989 г. исполнилось 100 лет со дня рождения крупного ученого, физиолога растений, Дмитрия Анатольевича Сабинина. Жизнь его внезапно трагически оборвалась на 62 году: 22 апреля 1951 года он покончил с собой. Об истории двух последних десятилетий жизни Д.А.Сабинина мне хотелось бы рассказать более подробно. * * * Д.А. Сабинин был заведующим кафедрой физиологии растений биологического факультета Московского Государственного Университета, начиная с 1932 года. Это был эмоциональный человек, с живым интересом ко всему окружающему, хорошо образованный, с громадной эрудицией. Он знал и любил искусство, особенно музыку, хорошо знал классическую литературу. Д.А. Сабинин был не просто биологом, а, подобно другим крупным ученым того поколения – Д. Н. Прянишникову, Н. И. Вавилову – естествоиспытателем широкого профиля. Он великолепно знал виды диких растений, разбирался в физике и химии, знал астрономию. Его лекции были одними из наиболее ярких из читавшихся в то время на биологическом факультете. Д. А. систематически следил за текущей специальной литературой, был очень чуток ко всему новому и мгновенно оценивал значение той или иной работы для будущего развития науки. Обо всех новых достижениях науки он тут же, по горячим следам, сообщал на лекциях. Поэтому на лекции приходили не только студенты, но и научные работники разных учреждений. Однако большая насыщенность материалом и необычная манера изложения делали его лекции трудными для студентов: на его лекциях надо было не просто записывать догматически излагаемый материал, а все время следить за ходом мысли лектора. В исследовательской работе Д. А. Сабинина было редкое сочетание широты и глубины, что давало ему возможность делать общебиологические обобщения принципиального характера. Его взгляды намного опережали уровень современной ему науки. Д. А. всегда очень ярко и остроумно выступал. Его доклады и выступления в прениях вызывали большой интерес и вносили оживление в аудиторию. Когда Д. А. Сабинин анализировал доклады своих коллег или давал отзывы о работах различных лиц или учреждений, он прежде всего искал в работах выяснение биологического механизма изучаемого явления и сурово критиковал исследование, если оно было чисто эмпирическим и сводилось лишь к констатации фактов, без попытки анализа. Вместе с тем Д. А. всегда радовался новым достижениям других и буквально влюблялся в их творца. Д. А. не терпел догматизма и начетничества и всегда говорил, что ссылка на авторитеты ничего не доказывает, как бы высоко этот авторитет ни стоял. Доказательством истины является только вдумчивый анализ фактов. Д. А. был очень прост и естественен в обращении, внимателен к людям, сам был остроумен и ценил остроумие в других. Его всегда возмущала трафаретность в мышлении и поведении людей. Эти черты он обычно высмеивал, хотя в те времена некоторые его «шалости» были для него далеко не безопасными. Так, по его рассказам, когда ему пришлось где-то в середине 30-х годов заполнять анкету о социальном происхождении, Д. А. написал, что он из дворян, хотя на самом деле это было не так. Мотивом этого поступка было то, что большинство его коллег писали, что они из рабочих или беднейших крестьян, что часто не соответствовало истине. К началу 30-х годов Д. А. Сабинин был широко известен биологам как крупный специалист в области минерального питания растений. Наряду с глубокой разработкой теоретических вопросов, таких как механизм поступления питательных веществ в корни, Д. А. интересовали и практические вопросы, связанные с применением удобрений. Он живо интересовался и хорошо знал сельскохозяйственную практику. Вообще говоря, в то время физиология растений была гораздо ближе к сельскохозяйственной практике, чем сейчас. Одной из животрепещущих проблем того времени было увеличение производства зерна. Дело в том, что при коренной перестройке сельского хозяйства, создании колхозов, посевные площади и урожайность на первых порах резко сократились. Многие области, раньше служившие житницей страны, не только не давали товарного зерна, но и сами голодали. Причины этого были прежде всего социально-экономические. Однако правительство искало выхода из создавшегося положения в мерах агрономических, и поэтому любые предложения ученых, сулившие быстрое увеличение урожайности, приветствовались и поддерживались. На этом фоне среди биологов взошла новая «звезда» – Т. Д. Лысенко. Т. Д. Лысенко окончил Киевский сельскохозяйственный институт и в 1925 г. начал работать в Гандже Азербайджанской ССР, где изучал влияние сроков посева разных культур на длительность вегетационного периода. В условиях Азербайджана эта тема была практически актуальной в связи с тем, что в этом климате посев сельскохозяйственных растений возможен в течение всего года, и нужно было найти рациональные сроки высева для разных культур. Неожиданно оказалось, что у растений, высеянных в разные сроки, очередность созревания между сортами и культурами нарушается: один и тот же сорт может проявлять себя то как раннеспелый, то как позднеспелый. Объяснить это явление удалось с помощью особой математической обработки данных, которую Т. Д. Лысенко произвел по совету известного в то время ученого-агронома и специалиста по сельскохозяйственной статистике Н. Ф. Деревицкого. Выяснилось, что на скорость развития специфическим образом влиял температурный режим во время прорастания растений. Для разных культур и сортов существовали оптимальные температуры, при которых развитие шло с максимальной скоростью, а длительность вегетационного периода была минимальной. Для некоторых культур, в частности для озимых злаков, переход к репродуктивному развитию ускорялся под действием низких положительных температур (то есть, при подзимних или ранних сроках высева). Если же температура при прорастании была высокой, то образование репродуктивных органов наступало позже и сорт проявлял себя как позднеспелый. В сущности эта работа Т. Д. Лысенко и способы обработки результатов были продолжением исследований, начатых в этом направлении Г. С. Зайцевым – специалистом по хлопку. Н. Ф. Деревицкий, близко знакомый с Г. С. Зайцевым, хорошо знал и его работы. Статья Т. Д. Лысенко «Влияние термического фактора на продолжительность фаз развития растений» вышла из печати в 1928 году. Она была высоко оценена Д. А. Сабининым. В том же 1928 году началась коллективизация, сопровождавшаяся конфискацией зерна у единоличников. В это время у отца Трофима Денисовича Лысенко – Дениса Никаноровича, украинского крестьянина, «случайно» перезимовало под снегом несколько мешков озимой пшеницы. По совету сына Д. Н. Лысенко высеял их весной. Они выколосились в те же сроки, что и яровая пшеница, хотя обычно при весеннем посеве озимая пшеница не выколашивается. Иначе говоря, произошло ускорение развития после воздействия на наклюнувшиеся семена низких температур. Именно это явление наблюдал ранее Т. Д. Лысенко в своих опытах в Гандже. Т. Д. Лысенко назвал это явление яровизацией и начал широко пропагандировать предпосевную яровизацию семян, как средство повышения урожайности [В ХVIII–ХIХ веках ускорение развития озимых злаков после выдерживания наклюнувшихся семян при низкой положительной температуре было описано в агрономических журналах, но практического применения этот прием не получил. В 20е годы ХХ столетия это явление было подробно изучено немецкими и английскими учеными.]. В течение ближайших 2-3 лет яровизация семян проводилась уже во многих колхозах разных областей СССР. С этого момента началось «триумфальное шествие» Лысенко как «народного академика» (он стал академиком АН УССР в 1936 году в возрасте 36 лет) и перерождение и деградация его как ученого. Т. Д. Лысенко много печатался в газетах, выступал на совещаниях колхозников и получил горячее одобрение И. В. Сталина на первом съезде колхозников-ударников. Вскоре Т. Д. Лысенко начал печатать в научных журналах статьи с рядом положений, которые он назвал вначале «рабочей гипотезой», а затем «теорией стадийного развития растений». Её сущность заключалась в следующем: высшие растения, для того, чтобы дать семена, в течение своей жизни должны пройти несколько стадий. Во время каждой стадии на точку роста стебля должны воздействовать определенные специфические условия, в результате чего в ней происходят необходимые качественные изменения, подготавливающие переход к следующей стадии. Только после прохождения всех необходимых стадий развития растение становится способным к плодоношению. Т. Д. Лысенко выделил две последовательные стадии развития: стадию яровизации (температурную) и стадию световую, во время прохождения которой растениям требуются определенные соотношения продолжительности дня и ночи. Д. А. Сабинин на этом этапе относился с большим интересом к работам Т. Д. Лысенко. В его бумагах сохранились конспекты докладов Т. Д. Лысенко, сделанных в 1933-34 годах. В 1934 году Д. А. ездил в Одессу, где Лысенко был директором Института генетики и селекции. Однако, внимательно изучив опубликованные статьи Лысенко и его выступления, ознакомившись на месте с его опытами, Д. А. пришел к заключению, что «теория стадийности» не представляет собой чего-то принципиально нового, а является частным проявлением ранее существовавшей общебиологической теории детерминации. Согласно этой теории на каждом этапе развития под воздействием определенных условий среды организм приобретает способность развиваться в строго определенном направлении, причем в течение жизненного цикла организма таких этапов может быть несколько. Сохранилась рукопись Д. А. под названием: «Существует ли теория стадийного развития растений?», написанная им, по всей вероятности, в 1936-37 годах. В ней на 24 страницах машинописного текста Д. А. аргументированно критикует все основные положения Лысенко и делает заключение, что «теория стадийности» может претендовать лишь на то, чтобы считаться рабочей гипотезой, прежде всего потому, что Лысенко не дал четкого определения понятий, которыми он в ней оперирует – таких, как «рост», «развитие» «стадия» и т. п. Во вторых, отдельные положения «теории» не проверены экспериментально. Наконец, она не объясняет ряда фактов, описанных в литературе. Впоследствии, в монографии, написанной в 1946-47 году (глава о развитии растений из этой монографии в качестве отдельной книги увидела свет лишь в 1963 году), Д. А подробно и критически разобрал сущность этой теории. С течением времени поведение Т. Д. Лысенко становилось все более агрессивным. Заручившись поддержкой Сталина и умело подделываясь под особенности его характера, в частности, используя его подозрительность, Лысенко все более и более отходил от серьезного, вдумчивого отношения к научным исследованиям, заменяя их беспочвенной демагогией, широковещательными обещаниями и публичным политическим охаиванием людей, возражавших ему. Возможно, что такое «превращение» произошло не без влияния И. И. Презента, специалиста в области общественных наук, демагога по натуре, который с середины 30-х годов стал приближенным Лысенко. Вскоре, наряду с «открытиями» в области физиологии растений, Лысенко выдвинул «новую» концепцию в области генетики, утверждая, во-первых, что передача наследственных свойств потомству может происходить не только при половом скрещивании, но и при прививках растений, которые Лысенко назвал «вегетативной гибридизацией». Во-вторых, он признавал наследование приобретенных признаков, тем самым солидаризируясь со взглядами Ламарка, высказанными еще в начале Х1Х века и позже отвергнутыми. Лысенко отрицал существование в клетках живых организмов «вещества наследственности», которое сосредоточено в генах, и считал, что наследственные свойства передаются потомству всей клеткой в целом. На ученых, исповедующих классическую генетику, Лысенко обрушивался с яростной бранью, навешивая на них ярлыки буржуазных прихвостней, идеалистов, антимарксистов и врагов развития социалистического сельского хозяйства. Начиная с 30-х годов дискуссии по вопросам генетики проходили в студенческих и научных аудиториях, рабочих клубах, редакциях журналов, и многие участники, недостаточно знакомые с существом дела, становились на сторону Лысенко, полагая, что он, как передовой ученый из народа, воюет с буржуазными ретроградами. Такому отношению способствовало недоверия «простых» людей и студенческой молодежи к старой интеллигенции, которое всячески подогревалось сверху. Лысенко же завоевывал симпатии широкой аудитории неспециалистов (в том числе и правительственных кругов) тем, что, выступая на совещаниях, он по манерам и речи разыгрывал из себя мало образованного «мужичка от сохи». Политические обвинения, которые делал Лысенко, не прошли бесследно для его противников, и в конце 30-х годов многие крупные генетики были арестованы как «враги народа» (термин, имевший широкое хождение в то время). Последним среди этой славной плеяды ученых был арестован Н.И. Вавилов в 1940 г.. Обстановка дискуссий того времени хорошо передана в воспоминаниях Л. И. Красовского, в то время студента 3-го курса на кафедре, которую возглавлял Д.А.Сабинин. Привожу текст этих воспоминаний почти полностью. «Еще в середине курса лекций, приблизительно в декабре 1936 - январе 1937 г. Дм. Анат. получал от студентов записки о ходе дискуссии по генетике. Эта дискуссия тогда проходила в клубе им. Кухмистерова (ныне театр им. Гоголя), где Лысенко делал свои первые (или одни из первых) наскоки на научную генетику, на «гороховые законы» Менделя. Сабинин объективно пересказывал суть крайних критических выпадов Лысенко. Всегда задавали вопросы об отношении самого Дм. Анат. к спору генетиков и Дм. Анат. открыто высказывался против необоснованной и ненужной критики научной генетики со стороны Лысенко и Презента. Это мнение Дм. Анат. было особенно ценно потому, что он сам не преподавал генетику и не имел сам ни профессиональной, ни сколько-нибудь корыстной заинтересованности отстаивать научную генетику. Для многих студентов того времени это имело решающее значение в выборе верной ориентации в науке, ибо спорили академики, отрицались основы науки, а защита со стороны генетиков представлялась их противниками и воспринималась студентами как логическое следствие косности, как нежелание перестроиться и переделаться у людей, которые много лет преподавали генетику, писали учебники и прожили с ней целую жизнь. Большинство и попалось на этот соблазн. Удержавшиеся же от соблазна во многом обязаны твердой позиции Дм. Анат. в этом ученом споре. Очень яркое выступление против ошибок академика Лысенко было у Д. А. Сабинина в прениях на научной студенческой конференции в конце зимы или в начале весны 1937 года. Эта конференция была устроена по инициативе студентов при активнейшей поддержке тогдашнего сотрудника деканата С. Д. Юдинцева. Конференция была посвящена работам акад. Т. Д. Лысенко. Подготовлено было пять докладов – три по развитию и два по генетике. Тогда уже всем было хорошо известно, что вопреки «здравому смыслу» проф. Сабинин является противником акад. Лысенко, не скрывает этого и вызывает сильное недовольство начальства. Конференция открылась в Большой Ботанической аудитории. Б'oльшая часть скамеек была занята слушателями. За кафедрой сидел президиум. Сабинина не было. Но в начале моего доклада (я был первым) вошел Дм. Анат. и вызвал сенсацию. Обычно одетый очень скромно и еще более скромно державшийся, Дм. Анат. в этот раз был одет в красивый светлый костюм и выглядел, как мне помнится, подчеркнуто эффектно. Уже самим костюмом Д. А. противопоставлял себя всей серой массе тогдашних «пролетарских кадров». Почему-то он сел не на студенческую скамейку, где сидели другие профессора, но занял место в президиуме, словно хотел, чтобы все видели его символический протест. Все это, вероятно, Сабинин делал намеренно, заранее зная весь ход последующих событий. Вспоминаю, как два года спустя, осенью 1939 года, мы с ним ходили на лекцию об электронном микроскопе в Ленинскую аудиторию МГУ. Я заранее купил билеты, заранее вручил билет Д. А., заранее занял места, но Д. А. не было. Когда уже началась лекция, он появился в дверях. Билет он, конечно, потерял, заплатил деньги контролеру и бегом стал подниматься по лестнице. Потом увидел меня, сообразил, что пройти невозможно, ибо придется беспокоить десятка полтора людей, зашел сверху и перепрыгнул через барьер. Вот такова была норма поведения этого крупнейшего физиолога наших дней. На конференции 1937 года он священнодействовал. Весь зал напрягся в ожидании убийственной для Лысенко и для него самого речи. Долго тянулись пять (если не шесть) докладов. Задавали вопросы. Вяло и трусливо высказывалось начальство. И вот объявляют: «Слово предоставляется профессору Сабинину». Не помню точно, хлопали или нет, но все с удовольствием замерли в ожидании необычного. И необычное началось. Он коснулся всех докладов и из каждого извлек что-то против Лысенко. Он особенно хвалил Кремянского за его пример с элодеей, которая «только растет, но не развивается», ибо не дает семян, а развитие по Лысенко есть смена форм «от семени до семени». Коснувшись каждого доклада, Д. А. со всей силой своей эрудиции и мощью ораторского таланта, который в нем словно оживал всякий раз, когда он говорил о Лысенко, обрушился на мой доклад, посвященный теории стадийного развития. С большим тщанием подготовленный, мой доклад подробно, точно и доходчиво излагал стадийное учение Лысенко и выгодно показывал его значение для сельского хозяйства. Многие слушатели впервые из моего доклада узнали о стадийной теории и искренне оценили ее так же высоко, как оценивал ее тогда я, студент 3-го курса. Сабинин подтвердил правильность моего изложения, но категорически возражал против моей высокой оценки стадийной теории. К сожалению, не было стенограмм той блестящей речи Дм. Анат., поэтому трудно воспроизвести его аргументацию. Но уже тогда он говорил о неотделимости роста от развития, о неприложимости Лысенковского понятия развития к растениям, размножающимся без спор и семян, о «загадочных»(!) причинах прибавки урожая после яровизации, о необязательности яровизации для некоторых сортов даже озимых культур, о том также, что в открытии яровизации у Лысенко есть предшественники и для науки в ней нет ничего нового. Закончил свою речь Д. А. заранее подготовленным ударом и цитатой из любимого его гениального Гёте. Сабинин сказал, что никакой теории у Лысенко нет, есть лишь шаткая гипотеза, которая только пытается выяснить интереснейший и важнейший для биологии вопрос физиологии растений. Гёте сказал, что гипотеза – это леса, которые нужны, чтобы построить здание. Когда здание готово, леса убирают. Нельзя, как это делает Лысенко, леса принимать за само здание. Овация была дружная, бурная, продолжительная. Сабинин торжествовал. Он победил невежество и достиг поставленной цели. Его превосходство было настолько велико, что остальное бормотание на конференции потеряло смысл, никто ничего не слушал и она сама собой закончилась. Не могу даже сказать, были ли заключительные слова и выступал ли я с каким-нибудь беспомощным лепетом – настолько стало все ничтожно и бесцветно после выступления Дм. Анат. Но недолго длилось его торжество. Дм. Анат. часто любил говорить, что смысл словам придает слушающий, а не говорящий. А слушатели были тогда особенные в своем роде. Существовали «буксиры». В Университете в 1936 году устроили диктант студентам и свыше 90% получили «неуды». Открыли обязательные курсы ликбеза для студентов МГУ. Это был 1937 год и головы были туго набиты бредом о бдительности. Легко себе представить, что влиятельное большинство восприняло речь Сабинина, как недопустимую дерзость «чужака». Люди чем-то вроде почек или желчного пузыря глубоко чувствовали, что Лысенко прав, и мозгом приняли только то, что Сабинин против Лысенко. Только сейчас тогдашняя речь Сабинина начинает звучать, как смелый голос истины. Потребовалась треть столетия, чтобы поднять культуру биологов до конгениальности с Сабининым в понимании лысенковской стадийности. Нет сомнения, что Сабинин, казавшийся инородным телом в Университете, держался там непрочно. Заслуги перед наукой тогда ценились дешево, без труда изымали таких ученых, как Успенский, Вальтер, Кизель, Тулайков, Вавилов и многих других. Больше всего было нежелательно инакомыслие, которого, хотя бы в отношении Лысенко, Сабинин никогда ни от кого не скрывал. Выступление Д. А. на конференции было последней каплей, которая переполнила чащу терпения, и очень скоро общественные организации приняли решение об увольнении Сабинина из Университета.» [Воспоминания Л.И. Красовского были написаны приблизительно в 1966 году] Формулировка увольнения звучала так: «за плохое руководство работой кафедры и за нетактичное выступление перед студенческой аудиторией по вопросам работы Лысенко» (цитирую характеристику, выданную Д. А. Сабинину деканом биофака С. Д. Юдинцевым и парторгом Н. К. Тильгором уже после восстановления его в Университете 1. Х1 1938 г.) Дм. Анат. не работал в Университете в течение года. Говорят, что при встречах со знакомыми в это время Д. А. иногда шутливо говорил: «Смотрите на меня внимательно, может быть, скоро не увидите: ведь я с работы снят, но еще не арестован». После восстановления на работе в 1938 г. Д. А. Сабинин с группой сотрудников и аспирантов еще раз поехал в Одессу для знакомства с продолжением работ Лысенко. В военные годы «генетические страсти» немного утихли – было не до теоретических споров. Военные и первые послевоенные годы были для Д. А. годами творческого расцвета. Особый интерес в эти годы он проявлял к проблемам роста и развития растений. Д. А. считал, что расшифровка закономерностей роста возможна только на основе изучения строения протоплазмы и процессов, происходящих в ней при росте. В конце 1942 года он сформулировал ряд положений, которые образно назвал «структурой жизни». Центральное место в гипотезе о структуре жизни занимало представление о том, что основой этой структуры служат макромолекулы нуклеиновых кислот, которые являются очагами синтеза белков. От концентрации нуклеиновых кислот в ткани зависят темпы её роста и характер новообразований, например, форма листьев, последовательно возникающих на растущем побеге и т. п. Лишь много позже, в конце 50-х – начале 60-х годов представление об особой роли нуклеиновых кислот в организме как матриц для синтеза белков и как «вещества наследственности» получило широкое признание. Работы Уотсона и Крика по расшифровке наследственного кода в структуре ДНК были удостоены Нобелевской премии. Но в начале 40-х годов эта гипотеза была очень новой и казалась чрезвычайно смелой. В 1944-45 годах в работах учеников Д. А. были получены первые экспериментальные доказательства закономерностей, сформулированных Д.А. Большой интерес проявлял Д.А.Сабинин к изучению гормональной регуляции процессов роста. В частности, он считал вероятным, что стимуляторами роста могут быть производные нуклеиновых кислот, а местом их синтеза – корень. Тем самым Д. А. предсказал открытие цитокининов и указал на место их синтеза, что подтвердилось много позже. Сабинин впервые сформулировал положение о роли корня не только как органа поглощения воды и минеральных веществ, но и как органа синтеза жизненно важных соединений. Интересу Д.А. к изучению гормональной регуляции роста способствовало также то, что во второй половине 40-х годов в СССР начало налаживаться промышленное производство синтетических ростовых веществ и появилась реальная возможность широкого использования их в сельском хозяйстве. В этот период у Д. А. Сабинина созрела обширная программа исследований действия ростовых веществ, которую планировалось провести силами кафедры физиологии растений в содружестве с кафедрой органического синтеза химфака МГУ, возглавляемой А. Н. Несмеяновым. Работу предполагалось провести по трем основным направлениям: 1) отыскание новых ростовых веществ среди соединений, образуемых организмами; 2) физиологическое изучение вошедших в практику синтетических ростовых веществ; 3) расширение области применения синтетических ростовых веществ путем испытания на новых объектах. Предполагались испытания действия ауксинов в сочетании с нуклеиновыми кислотами, изучение действия ростовых веществ на синтез белков и нуклеиновых кислот. В 1948 году, после сессии ВАСХНИЛ, эти работы были прекращены. В первые послевоенные годы нападки Т. Д. Лысенко на инакомыслящих ученых усилились. Одной из новых жертв Лысенко стал крупный генетик, профессор Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии А.Р. Жебрак. В ответ на газетную травлю Жебрака Д.А.Сабинин послал письмо в его защиту А.А.Жданову, который в то время будучи членом политбюро ЦК партии непосредственно занимался вопросами культуры и науки. Это письмо, имеющееся в архиве Д. А., я здесь привожу. «Глубокоуважаемый Андрей Александрович! Ваше внимание к научной и культурной жизни нашей страны, Ваше направляющее влияние на решение дискуссионных вопросов в этой области позволяют мне обратиться в Вам с настоящим письмом. На днях в «Правде» и в «Литературной газете» появились статьи, полные возмущения по адресу проф. Жебрака, опубликовавшего примерно полтора года назад статью в ответ на выступление американского ученого Сакса. Авторы статей в «Правде» и «Литературной газете» требуют предания А. Жебрака суду общественности. Следовательно, приходится заключить, что мы, читавшие в 1945 г. ответ А. Жебрака в “Science” и вполне удовлетворившиеся им, не сумели заметить в нем главного, или же, что авторы указанных статей полтора года, переваривая впечатления от этого ответа, все же не сумели его понять и оценить должным образом. Статья Сакса, опубликованная в апреле 1944 г. задевала достоинство нашей науки, наших ученых. Они изображались в ней, как послушная толпа, внимающая директивам сверху, и, в частности, почтительно умолкшая перед Лысенко, получившим поддержку властей. Что можно, и что нужно было ответить Саксу, чтобы этот ответ прозвучал так сильно и убедительно, как этого требовала ситуация, сложившаяся вокруг поднятого вопроса о свободе науки в нашей стране? Ответа сильного, независимого и проникнутого убежденностью. Проф. Жебрак в своем ответе, разобрав положение генетики в СССР, в наших ВУЗах, институтах, очень убедительно показал, что она развивается по тому пути, которым она шла до появления генетических работ Лысенко. Проф. Жебрак сказал все, что можно сказать в коротенькой статье для опровержения основных принципиальных положений статьи Сакса. Правда, он не взял под свою защиту чести Лысенко как ученого-генетика. Вот это обстоятельство и вызвало возмущение наших авторов – Лаптева, Фиша, Суркова. Спрашивается, мог ли и должен ли был Жебрак, выступая на страницах журнала, читаемого учеными всего мира, защищать величие Лысенко как генетика? Он не мог этого сделать по той простой причине, которая создала в нашей стране заговор молчания вокруг последней наиболее широковещательной из всех статей Лысенко, работы «Наследственность и её изменчивость». Не может ученый-натуралист солидаризироваться с утверждениями «О превращении элементов в теле организма не в то, чем были эти химические элементы вне организма». Не может биолог, считающий успехи в изучении составных частей клетки, ядра и хромосом одним из важнейших достижений последней четверти века, согласиться с заменой этих представлений положением о наследственности как свойстве клетки в целом и о том, что «каждая капелька протоплазмы обладает наследственностью». С возмущением и стыдом закрываешь книгу, где автор говорит о «развитии как закручивании и раскручивании», где нет ни одной страницы, лишенной путаницы и противоречий. Ведь эта книга переведена на английский язык! О её содержании и характере узнали на Западе и в США уже за год-два до этого перевода. Солидаризироваться с упомянутой книжкой Лысенко, с этим манифестом лысенковской генетики, не мог ни Жебрак, и ни один передовой биолог нашей страны, не отказывающийся от ряда положений, являющихся основой современной биологии. Конечно, можно сказать так: раз Жебрак взялся за перо для поддержания нашего национального достоинства, он должен был занимать видное место в нашей науке. Но ведь проф. Жебрака знали за рубежом, знали его работы, его взгляды, его позицию в дискуссионных вопросах генетики. Если бы он, давний противник Лысенко, на страницах нашей печати торопливо сменил вехи при ответе Саксу, это могло бы быть лишь подтверждением лживых утверждений Сакса. Ответ Жебрака был особенно убедителен и хорош именно потому, что он содержал в себе тот элемент независимой критики, само существование которой к нашей стране отрицал Сакс. Таким образом самым ценным в ответе Жебрака было, пожалуй, то проявление независимости суждения о Лысенко, которое так возмутило товарищей из «Правды» и «Литературной газеты». Вот этого-то они, к сожалению, и не поняли в ответе Жебрака. Правда, винить их за это трудно. Если им понадобилось полтора года для того, чтобы додуматься, что ответ Жебрака достоин возмущения, то не меньший срок пройдет, пока они разберутся в своей ошибке. Профессор Московского Государственного Университета Завед. кафедрой физиологии растений (Д. Сабинин) 8/1Х – 47 г. Москва 9, ул. Герцена 6, Институт ботаники МГУ Дмитрий Анатольевич Сабинин» В 1946-47 годах Т. Д. Лысенко выступил с новыми «откровениями» о скачкообразном превращении одних видов в другие и об отсутствии в природе внутривидовой борьбы. Интервью с Лысенко по этому вопросу было напечатано в «Литературной газете» 18 октября 1947 года под кричащим тенденциозным заголовком: «Почему буржуазная наука воюет против работ советских ученых». Речь в статье шла о пропаганде Лысенко гнездовых посевов кок-сагыза (каучуконос, в то время вводимый в культуру). Лысенко говорил корреспонденту: «Теоретической основой гнездового посева является отсутствие внутривидовой борьбы…» «Я знаю, что еще и у нас внутривидовую борьбу признают некоторые биологи, например профессор П. М. Жуковский…Я отношу это к буржуазным пережиткам. Внутривидовой конкуренции в природе нет и нечего её науке выдумывать.» Д.А. Сабинин был возмущен этим очередным невежественным и безапелляционным выступлением Т. Д. Лысенко в широкой печати и вместе с акад. И. И. Шмальгаузеном, проф. А. Н. Формозовым и деканом биофака С. Д. Юдинцевым написал в «Литературную газету» опровержение под названием «Наши возражения академику Лысенко». Оно было опубликовано 29 ноября 1947 года. В письме ученых говорится: «В открытии Лысенко нет ничего принципиально нового….Цифры, приводимые в работах Т. Д. Лысенко доказывают, вопреки воле автора, именно наличие внутривидовой борьбы в посевах…Мы считаем, что концепция Т. Д. Лысенко об отсутствии внутривидовой борьбы противоречит основным положениям дарвинизма, отвлекает научную мысль на неправильный путь, лишая тем самым нашу практику богатейших возможностей». Таким образом, в этих новых работах Лысенко чувствовался тот же самый стиль, что и раньше: ниспровержение основных, твердо установленных законов биологии, без достаточных на то оснований, без вдумчивого анализа предмета и без корректной экспериментальной проверки. В том же номере газеты оппонентам Лысенко ответили его ученики и союзники – А. Авакян, Д. Долгушин, Н. Беленький, И. Глущенко. Ф. Дворянкин, которые выступили со статьей: «За дарвинизм творческий, против мальтузианства» где, в частности, говорилось: «Толкуя о престиже русской и советской науки в области обоснования теории естественного отбора, оппоненты подменяют суть этой теории чуждым для нее мальтузианством. Традиции же передовых русских ученых заключались в ином, – как раз в том, что они не боялись ломать установившиеся за рубежом каноны и не следовали слепо модным течениям зарубежной науки, а противопоставляли им свои исследования и выводы». Далее недопустимо грубым тоном авторы статьи заявляли, что оппоненты Лысенко вздумали де учить его агротехнике, тогда как им самим еще нужно поучиться. Продолжением дискуссии на страницах «Литературной газеты» было заседание, устроенное в Большой Коммунистической аудитории МГУ (Моховая 11), где с докладами о внутривидовой борьбе выступили И. И. Шмальгаузен, Д. А. Сабинин и А. Н. Формозов. Аудитория была переполнена. Сторонники Лысенко и он сам были приглашены на совещание, но никто из них либо не явился, либо не выступал. Во всяком случае, крупных лысенковцев, которых все знали в лицо, там не было. Д.А. на примерах, взятых из работ лысенковцев, убедительно показал, что неправильные выводы, которые сделал Лысенко и его сторонники из результатов опытов, являются следствием неправильной обработки данных. На самом деле эти данные лишь подтверждают существование внутривидовой борьбы. Дискуссии по докладам, насколько мне помнится, не было. Доклады, сделанные на заседании, были выпущены затем отдельной брошюрой. («Внутривидовая борьба у животных и растений», 1947 г. изд. МГУ). Нападки на ученых, чем-либо не угодивших Лысенко, в печати все усиливались. Это совпадало с утверждением приоритета и престижа русской науки. В научных статьях не разрешалось приводить большой список иностранных работ. На стороне Лысенко, наряду с биологами и агрономами, выступали философы (они присоединились к Лысенко в середине 30-х годов и в середине-конце 40-х годов стали особенно активными), обвинявшие своих противников в низкопоклонстве перед Западом, ревизии марксизма, идеализме и т.п. Каждый день газеты приносили известия о новых жертвах разнузданной клеветы. Обвинения было бездоказательными, а тон напоминал грубую перебранку базарных торговок, с той разницей, что роль нецензурных выражений заменяли клички: «космополит», «низкопоклонник», «лжеученый», «буржуазный выродок». Как и всегда в это время, научные споры переводились в плоскость политическую. Между тем в правительственных кругах появились сомнения в компетенции Лысенко как ученого и правильности его практических рекомендаций. Собрать материалы и выяснить мнения других ведущих ученых о деятельности Лысенко было поручено сыну А. А. Жданова – Юрию Александровичу Жданову, который в то время работал в отделе науки ЦК. На беседу с Ю. А. Ждановым был приглашен и Д. А., который откровенно высказал свое мнение о работах Лысенко. Лысенко стало об этом известно, и он решил нанести ответный удар. 31 июля 1948 года открылась сессия ВАСХНИЛ, на которой, с предварительного одобрения И. В.Сталина, Т.Д. Лысенко разгромил сторонников классической генетики, противопоставив советской «мичуринской науке» буржуазный «морганизм-вейсманизм» (этот термин на долгие годы стал ругательной кличкой генетиков). Некоторые известные ученые, сначала возражавшие Лысенко, узнав, что Лысенко получил поддержку Сталина, и в сущности его точка зрения становится официальной точкой зрения партии, отказались от своих первоначальных высказываний и к концу сессии «покаялись». Лишь немногие, такие как Раппопорт, твердо отстаивали свою научную позицию. Д. А. Сабинин на эту сессию приглашен не был. 12 августа 1948 года было объявлено общее собрание коллектива биофака. Оно состоялось в Большой зоологической аудитории МГУ, на ул. Герцена. Совещание открыл тогдашний ректор МГУ А. Н. Несмеянов, который сказал примерно следующее: «Вы знаете, что академика Лысенко поддерживают Партия и Правительство. Коллектив биофака в прошлом совершил ряд ошибок, за которые декан С. Д. Юдинцев отстранен от занимаемой должности. Представляю вам нового декана И. И. Презента. Вы должны тщательно продумать свое дальнейшее поведение и если вы сделаете правильные выводы из всего случившегося, я постараюсь сохранить коллектив биофака в целости. Я не требую, чтобы вы высказывались сейчас, всем надо подумать и определить свою линию поведения, а через неделю мы соберемся снова.» Вслед за ректором выступил Юдинцев, который монотонным голосом зачитал по бумажке, что он совершил ошибку, собрав совещание по внутривидовой борьбе, поддержав противников Лысенко и считает, что увольнение его было справедливым. На этом Несмеянов хотел закрыть собрание, но неожиданно поднял руку, прося слово, Д. А. Сабинин. Еще сбегая по лестнице к трибуне, он начал говорить: «Я считаю, что все так называемое учение Лысенко – это сплошная чепуха и я вам всем сейчас это докажу». Его прервал Несмеянов: «Дмитрий Анатольевич, остановитесь, не горячитесь, подумайте, чем Вам всё это грозит!». Но Д. А. продолжал: «Я сорок лет преподаю физиологию растений и много лет думал над этими вопросами. Мне нечего передумывать. Я знаю, чем мне это грозит, но я не считал бы себя порядочным человеком и настоящим ученым, если бы не сказал честно всё, что я думаю.» Однако, высказываться дальше Д. А. не мог, так как Несмеянов поспешно закрыл собрание. Сотрудники Д.А. уныло собрались на кафедре. Когда туда пришел Д. А., я подошла к нему и сказала: «Зачем Вы это сделали? Если Вам не жалко себя, то пожалели бы кафедру, которую Вы организовали с таким трудом. Ведь нас теперь разгонят!», на что Д. А. отвечал: «Дети мои, поймите, я не мог поступить иначе, да и все равно мои взгляды известны и я их не изменю. Ведь этот подлец у меня чай пил!» (Очевидно, в этом случае подлецом Д. А. назвал Презента). В это время в комнату вошли две навзрыд плачущие студентки и с другой кафедры и пролепетали: «Разрешите пожать Вашу руку, ведь Вы – единственный настоящий человек среди всех этих трусов!». Раздался звонок телефона – Дмитрия Анатольевича приглашал к себе Несмеянов. Вернувшись, Д. А. предал свой разговор с ректором. Несмеянов глубоко сожалел о случившемся и сказал Д. А., что теперь, после публичного выступления, он не сможет отстаивать Д. А. и принужден будет его уволить. Через неделю состоялось новое собрание коллектива биофака, на котором профессора и сотрудники «каялись» в своих ошибках, указывали пальцами на тех, кто их «подбил» на неверные действия; те, в свою очередь, пытаясь оправдаться, указывали на следующих, в общем, шла цепная реакция взаимного охаивания и сведения личных счетов. Дмитрия Анатольевича на этом собрании не было, так как опасаясь его языка, сотрудники позаботились, чтобы он об этом собрании не узнал, и он в этот день уехал в другое учреждение. Вскоре (28 августа 1948 года) приказом по министерству просвещения Д.А. вновь был снят с работы «как проводивший активную борьбу против мичуринцев и мичуринского учения и не обеспечивший воспитания советской молодежи в духе передовой мичуринской биологии». Вместе с ним были уволены многие профессора и сотрудники МГУ, в том числе и «покаявшиеся». На место уволенных были зачислены сотрудники Лысенко. Массовые увольнения прошли и в других научных и учебных заведениях биологического профиля по всему Советскому Союзу. В сентябре 1948 года я ненадолго уехала в отпуск в Киев, и там получила письмо от Д. А., выдержки из которого я здесь привожу: «Очень хорошо, что Вы находитесь вдали от кафедры, Университета и Москвы. Волей-неволей Вы были бы иначе вовлечены в ту атмосферу слухов, тревог и волнений, которой охвачены круги биологов. Все интересы, все разговоры сосредоточены вокруг одной проблемы, одних и тех же сведений и новостей. Разговоры и размышления бесплодны, надо или отдыхать, как делаете Вы, или работать, изолируясь от общей настроенности. Второе не так-то просто. В связи с этим послушайте моего совета, живите в Киеве подольше, съездите не только в Китаево, но и в Херсон и в Одессу. Сейчас слишком все неопределенно, чтобы устраиваться где бы то ни было. Приедете 1 октября, будет, вероятно, яснее, да и сил наберетесь побольше. А это не помешает: обстановка для работы на ближайший год будет, очевидно, отнюдь не идиллической. Оружием в борьбе за существование несомненно, окажется и знание работ Одесского Института, где долгое время директором был Т. Д. Лысенко. Да и Вам просто любопытно познакомиться на месте с деятельностью крупного коллектива мичуринцев. Но держите себя там умно. Мое собственное положение неопределенное: я занимаюсь операцией, именуемой в химии синтез по остаткам. Вспоминаю, что, где и с кого можно взять из книг, из денег и предпринимаю вылазки. Бываю в журнальном зале МГУ, где уже опять все разложено по полкам и много есть интересного. Пожалуй, особенно везет проблеме веществ, задерживающих рост. Недурно было бы доклад, сделанный мной весной, пополнить и расширить, охватив проблему возможно широко. Правда, общая ситуация на биологическом фронте смутная и сумбурная, несколько мешает сосредоточиться на чем-либо одном и заставляет интересоваться всяким вздором». В первое время после увольнения Д. А. надеялся, что нормальное положение в биологии восстановится в течение сравнительно непродолжительного времени, максимум через год. Нужно было выжидать. Положение Д.А. было очень трудным не только морально, но и материально. У него было четверо детей. Старшая дочь уже имела свою семью, но, будучи аспиранткой, нуждалась в материальной помощи Д.А. На одну зарплату жены вся большая семья Д.А. существовать не могла. Была надежда получить гонорар за книгу по физиологии растений, которую Д.А. написал в 1946-47 г. Книга была задумана как учебник и в ней Д.А. подытожил материалы курса лекций, которые он долгие годы читал студентам. Однако, по характеру изложения, глубине, новизне, книга была трудна для студентов и скорее представляла собой сводку современного состояния физиологии растений, и даже во многом это современное состояние опережала. Издательство «Советская наука» приняло книгу к печати в качестве монографии и Д.А. начал работать с редактором. Книга еще не была напечатана, но размноженные на машинке несколько экземпляров жадно читали сотрудники и аспиранты кафедры, по ним готовились к экзамену студенты. После увольнения Д.А. из Университета издательство отказалось печатать книгу, несмотря на восторженные отзывы о ней ряда ведущих ученых (сохранились отзывы, сделанные по просьбе издательства проф. Благовещенским, проф. Львовым, проф. Красносельской) и их утверждения, что материал книги не затрагивает вопросов, бывших предметом дискуссии на сессии ВАСХНИЛ. Лишь после смерти Д.А. благодаря активным хлопотам многолетней сотрудницы Д.А. доцента кафедры О.М. Трубецковой и ходатайству ряда других лиц, книгу удалось напечатать в 1955 году, но без главы о физиологии развития растений, содержащей критику Лысенко. Последняя была издана отдельной книгой лишь в 1963 году. По прошествии 3-4 месяцев Д.А. начал делать попытки устроиться на работу. Но его боялись брать: он как бы был объявлен вне закона. Не принимали на работу не только его, но и его учеников. Только через шесть месяцев, пользуясь своей исключительной популярностью в обществе, его решился взять к себе на работу Герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин. 20 февраля 1949 г. Д.А. Сабинин был зачислен старшим научным сотрудником в Институт Океанологии АН СССР. причем исполнял обязанности директора Черноморской станции этого института в Голубой Бухте близ Геленджика. По свидетельству его лаборантки, бывшей студентки кафедры Г. М. Чихичевой, в первый год в Геленджике Д.А. много и интенсивно работал, изучая физиологию морских водорослей, часто выходил в море, которое он всегда очень любил. Одновременно он много и систематически занимался административными делами. На станции царил бодрый тон. Обаяние Д. А., умение подойти к людям, демократический и деловой стиль его работы, позволили сплотить дружный и деятельный коллектив. Тем не менее масштабы работы были значительно 'уже творческих возможностей Д.А. У него не было ни сотрудников, ни достаточного количества средств, приборов и реактивов, чтобы развернуть серьезную работу. Он тосковал по молодой, шумной студенческой аудитории, к которой привык и которую любил. Об этом он сказал в доме своей старшей дочери, когда 30 ноября 1949 года мы собрались для празднования его 60-летнего юбилея. Он сказал: «Я пью за то, чтобы мы все всегда хорошо вспоминали время, когда мы были вместе. Когда я читал лекции студентам и видел, как в ответ на то, что я говорю, загораются интересом их глаза, я всегда чувствовал себя молодым. Эти поколения студентов вырастали, на смену им приходили новые и так же на лекциях загорались из глаза, и я думал: «нас увлекает одно и то же, значит, я так же молод, как они. А теперь этого нет, и я внезапно почувствовал себя старым». Когда Д.А. поступил на работу в Институт океанологии, ему обещали, что впоследствии его официально назначат директором станции. Однако, зимой 1950-51 г директором был назначен другой человек, что, конечно, уменьшало возможности Д.А., и без того скромные, организовать должным образом работу на станции. Судя по сохранившимся докладным, до самых последних своих дней он делал неустанные попытки добиться ремонта морского водопровода, который был необходим для культивирования морских водорослей, использовал все свои знакомства, чтобы достать реактивы, но результат этих усилий был мизерным… Стало ясным, что жизнь и судьба Д.А. в Голубой Бухте – это судьба человека, вырванного из гущи жизни, оторванного от привычной ему кипучей деятельности и обреченного на прозябание. К тому же жизнь в одиночестве, в отрыве от близких людей, также угнетала Д.А. Он решил попытаться устроиться на работу в Москве. Появилась возможность поступить в Почвенный Институт АН СССР, но Опарин, бывший тогда академиком-секретарем отделения, поставил условием поступления Д.А. на работу публичное «покаяние». Улучшения положения в биологии, на что вначале надеялся Д.А., в скором времени не предвиделось. По-видимому, в этот период у Д.А. и начался тяжелый нервный срыв. Все близкие ему люди, встречавшие Д.А. в ту зиму, поражались перемене, которая с ним произошла: обычно всегда легко смеявшийся, любивший шутить и радовавшийся удачным шуткам других, даже если они высмеивали его самого, он стал ко всему безучастным, молчаливым, а в глазах застыло выражение боли. В то время я работала в Лаборатории физиологии Института леса АН СССР. Её заведующий, чл.-корр. Л.А. Иванов, которому исполнилось 80 лет, решил уйти на пенсию и попросил меня поговорить с Д.А., не согласится ли он заведовать этой лабораторией, так как лучшего преемника себе он не может желать. Прошло несколько дней, но я Д.А. не видела. Узнав об этом, Л.А.Иванов сказал, что надобность в разговоре с Д.А. отпала, так как он говорил с акад. В.Н. Сукачевым – директором Института леса, и тот сказал, что взять Д.А. Сабинина не сможет. Действительно, В.Н. Сукачев принял на работу многих уволенных «формальных генетиков». В состав партбюро Института входила группа лиц – противников В.Н. Сукачева. Среди них наиболее активными были К.Н. Тараканов и А.П. Щербаков, которые выступала против него на собраниях, писали доносы, вызывая бесконечные проверочные комиссии. В.Н. Сукачев боялся, что в такой обстановке острый язык Д.А. и его нежелание лавировать еще обострят создавшееся положение. В середине апреля 1951 года я случайно встретила Д.А. на заседании и он попросил меня проводить его до остановки троллейбуса. Он сказал, что рад за меня, что я работаю у настоящего честного ученого и добавил: « Я понял, что никак не могу изменить свою судьбу. Мне невыносимо думать, что я поеду в Геленджик и буду там один на пустом берегу, под вой ветра. Все мои попытки устроиться безрезультатны. Все говорят, что я должен каяться, но этого я не могу. Я стал никому не нужен…» Я удивлялась необычному поведению Д.А., так непохожему на свойственный ему обычно бодрый оптимистический тон, но, к сожалению, мне не хватило жизненного опыта, чтобы понять то, что он недоговаривал. Чтобы хоть как-то утешить Д.А. я сказала, что Л.А. Иванов очень высоко ценит его и его одного хотел бы видеть своим преемником, но что обстановка в Институте такова, что к нам Д.А. идти нельзя. Потом я узнала, что Д.А. все же ходил к Сукачёву и Сукачёв ему отказал. В таком тяжелом состоянии Д.А. уехал в Геленджик, взяв с собой охотничье ружье. К сожалению, там в то время из научного персонала была одна Г.М. Чихачёва, слишком молодая и неопытная, чтобы хоть как-то повлиять на настроение Д.А. Сотрудники более старшего поколения Щапова, Гаевская, гораздо более эрудированные, которые могли бы затеять интересный для Д.А. разговор, втянуть его в научные споры, как это обычно бывало, отвлечь – в это время отсутствовали. Рано утром 22 апреля 1951 года он застрелился. Когда я теперь, через много лет, рассказываю об этой истории, я часто слышу вопрос, стоило ли Дмитрию Анатольевичу из-за расхождений в определении понятия «развитие растений» или признания внутривидовой борьбы сражаться с ветряными мельницами и так рисковать собой. Ведь в сущности это – отдельные частные вопросы науки. Но дело заключалось не в этих частных вопросах, по которым у разных ученых могла быть разная точка зрения. Дмитрий Анатольевич последовательно отстаивал чистоту и честность науки, её свободу от давления извне, строгость её доказательств и выводов, против невежества и особенно беспринципного использования науки для целей, ничего общего с ней не имеющих. В ряде современных статей, где упоминается имя Д.А. Сабинина, о нем пишут, что он «не выдержал травли и застрелился». Вряд ли это правильно. Ведь «травля» состояла лишь в том, что его дважды увольняли с работы – один раз в 1937 году и второй в 1948. Многим его коллегам пришлось перенести неизмеримо больше, но никто сам в петлю не полез. На Сабинина никто не нападал, его не обливали грязью в газетах, у него не было нужды обороняться, но он сам шел на отчаянную неравную борьбу за истину в науке, за независимость науки, не имея никаких шансов на успех. С середины 30-х годов и до августа 1948 года он редкий день не выступал перед слушателями с уничтожающими разоблачениями антинаучной биологической отсебятины академика Лысенко и его последователей. Но несмотря на ораторский талант и убедительность аргументации Сабинина почти все слушатели, хотя и аплодировали ему, упорно и безоглядно шли за академиком Т.Д. Лысенко – у него была сила. И даже ближайший и лучший ученик Д.А.Сабинина профессор П.А.Генкель сделался правоверным «лысенкистом». Похоже, что Д.А.Сабинин не смог пережить гибель научной биологии в его родной и дорогой ему стране. Очень мучило его и молчаливое согласие почти всех ученых на этот разбой в науке в продолжение многих лет, особенно после августа 1948 года. Засилье Лысенко нанесло громадный вред воспитанию научных кадров, и сейчас многие представители того поколения ученых, которое сформировалось после победы Лысенко, видят в науке лишь служанку для своих корыстных интересов, прежде всего для своей карьеры. Недаром после 1948 года ходил грустный каламбур «С победой Лысенко произошло «облысение» науки». Исправить это чрезвычайно трудно. Справедливости ради следует сказать, что Д.А. Сабинин не был одинок в своей борьбе с Лысенко. Можно назвать более десятка имен крупных ученых, которые не подлаживались под модное «мичуринское» течение, не предавали своих научных взглядов. Но методы их борьбы были иными. Они лавировали. Один из примеров такой борьбы ярко и подробно описан в романе В.Дудинцева «Белые одежды». Пример этот взят из жизни. Другой пример такого же рода – это поведение акад. В.Н.Сукачева. Пока Лысенко был в силе, он не высказывал публично своего несогласия с идеями Лысенко. Но вместе с тем В.Н.Сукачёв взял на работу многих уволенных «морганистов-вейсманистов», в том числе и акад. Н.П.Дубинина. Лишь когда положение Лысенко пошатнулось, В.Н.Сукачёв стал выступать в печати против его рекомендаций. Таким образом В.Н.Сукачёв сохранил Институт леса, которым он руководил, и многих честных учёных. Кто из них был более прав – Сабинин или Сукачёв, и что принесло больше пользы науке? Я не берусь судить, думаю только, что способы борьбы со злом человек избирает согласно особенностям своего характера. Такой человек как Д.А.Сабинин – открытый и эмоциональный – не мог действовать иначе. Дмитрий Анатольевич Сабинин похоронен в Геленджике. На его памятнике его почерком выгравирована латинская надпись «Post tenebras spero lucem». Это было одно из любимых изречений Д. А.: «После темноты надеюсь на свет».
Написано в 1989 г.
Источник - Интернет-библиотека "Современные проблемы"
Другие материалы о Дмитрии Анатольевиче Сабинине 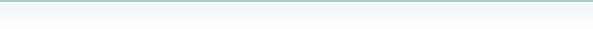
|
|||
| |||